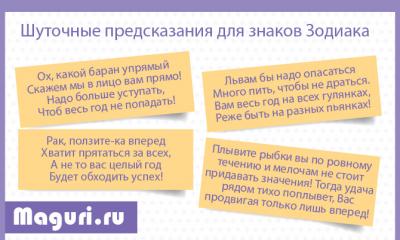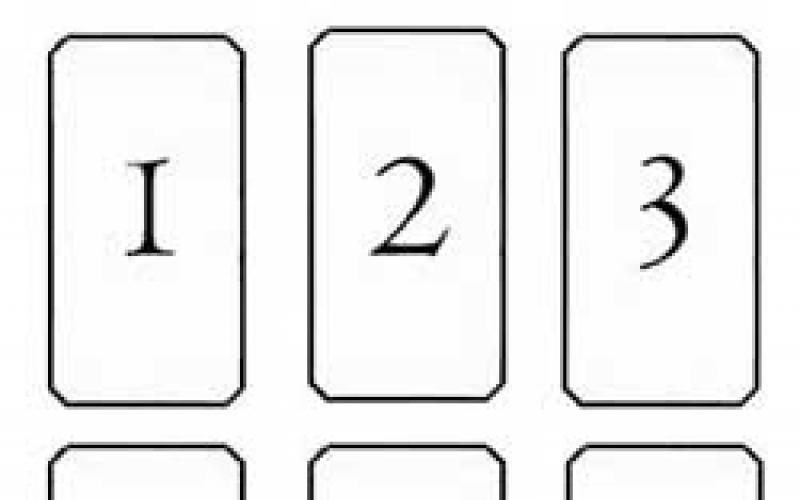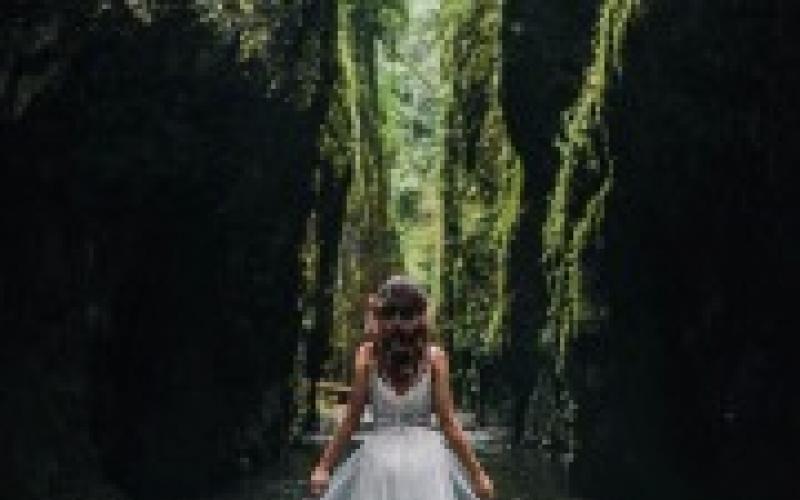11. Эрос и Танатос
В условиях отсутствия подавления сексуальность обнаруживает тенденцию к "перерастанию" в Эрос, т.е. к самосублимации в долговременные и расширяющиеся отношения (включая трудовые), которые способствуют усилению удовлетворения. Но когда Эрос стремится "увековечить" себя в нерушимом порядке, он наталкивается на сопротивление - и прежде всего царства необходимости. Разумеется, существует возможность преодоления нужды и бедности, преобладающих в мире, и установления всеобщей свободы, но, по-видимому, только при сохранении основы существующего общества - непрекращающегося труда. Ни технологический прогресс, ни завоевание природы, ни рационализация человека и природы не смогли и не смогут устранить необходимость отчужденного труда, необходимость механической, лишенной удовольствия работы, не обещающей индивиду никакой самореализации.
Однако само прогрессирующее отчуждение увеличивает возможность свободы: чем более внешним по отношению к индивиду становится необходимый труд, тем меньше этот индивид оказывается вовлеченным в царство необходимости. С ослаблением требований господства происходит количественное сокращение времени и энергии, расходуемых в процессе труда, которое ведет к качественному изменению человеческого существования: его содержание тогда определяется скорее свободным, чем рабочим временем. Царство свободы, расширяясь, становится подлинным царством игры - свободной игры индивидуальных способностей, способной создать новые формы осуществления
и раскрытия мира, что, в свою очередь, повлечет трансформацию царства необходимости и борьбы за существование. Изменившееся соотношение между двумя мирами человеческой реальности означает перемену соотношения между желаемым и разумным, между инстинктом и разумом. С преобразованием сексуальности в Эрос инстинкты жизни развивают свой чувственный порядок, и в то же время разум становится чувственным настолько, что познает и использует необходимость для защиты и обогащения инстинктов жизни. И уже не только художественная культура, но и сама борьба за существование становится фундаментом эстетического опыта. Все это подготавливает новую рациональность. Репрессивность разума, свойственная власти принципа производительности, не принадлежит к царству необходимости per se. В мире принципа производительности удовлетворение сексуального инстинкта в значительной степени зависит от "отключения" разума и даже сознания ненадолго (законным способом или тайком) забыть о частных или общих невзгодах, прервать благоразумную рутину жизни, долга, офиса, почетного положения. Счастье неразумно по определению - как сопротивляющееся подавлению и контролю. Напротив, за пределами принципа производительности инстинктивное удовлетворение тем более нуждается в сознательном усилии для создания новой рациональности, чем менее оно является побочным продуктом рациональности угнетения. В свою очередь, чем свободнее развивается сексуальный инстинкт, тем свободнее утверждает себя его "консервативная природа". Стремление к устойчивому удовлетворению не только способствует разрастанию строя (order) либидозных отношений ("сообщество"), но также и его увековечению. Принцип удовольствия проникает в сознание. Эрос создает новую форму разума. Теперь разумным становится то, что поддерживает порядок удовлетворения.
Поскольку борьба за существование превращается в сотрудничество с целью развития и осуществления индивидуальных потребностей, репрессивный разум уступает место новой рациональности удовлетворения, в которой сливаются разум и счастье. Она создает собственное разделение труда, приоритеты, иерархию. Администрирование, доставшееся в наследство от принципа производительности, обращается не на людей, а на вещи: для успешного функционирования зрелая цивилизация нуждается в координации множества соглашений. Эти соглашения, в свою очередь, должны быть формой осуществления признанной власти. Иерархические отношения per se не являются причиной несвободы, рациональная власть, на которую в значительной степени опирается цивилизация, основана на знании и необходимости и нацелена на защиту и сохранение жизни. Такова власть инженера, регулировщика движения, пилота летящего самолета. Напомним еще раз отличие подавления от прибавочного подавления. Если ребенок испытывает "потребность" пересекать улицу в любое время по своему желанию, подавление этой "потребности" не является подавлением человеческих возможностей. И наоборот - потребность "расслабиться" с помощью предоставляемых культурной индустрией развлечений репрессивна, и ее подавление - шаг на пути к свободе. Там, где подавление стало настолько эффективным, что для человека оно принимает (иллюзорную) форму свободы, упразднение такой свободы может показаться тоталитарным актом. Здесь снова возникает старый конфликт: человеческая свобода не является сугубо частным делом, но она - совершеннейшее ничто, если забывают, что она - также и частное дело. Если автономия индивида больше не нуждается в отделении и противопоставлении ее публичному существованию, то свобода индивида и целого могут быть примирены "общей волей", воплощенной в институтах, которые обращены, так сказать, лицом к индивидуальным потребностям. Исходящие от общей воли требования отказа и задержки не должны быть косными, "бесчеловечными", как не должен быть авторитарным ее разум. Однако остается вопрос: как возможно свободное порождение свободы в цивилизации, если несвобода стала неотъемлемой частью психического аппарата? А если нет, то кто имеет право устанавливать объективные нормы?
От Платона до Руссо единственным честным ответом была идея наставнического диктата, осуществляемого теми, кто, по общему мнению, приобрел знание истинного Добра. Но этот ответ давно устарел: знание о том, как сделать существование человеческим для всех, - уже не исключительное достояние привилегированной элиты. Факты открыты для всех, и индивидуальное сознание, если не подвергается методическому торможению и отвлечению, может легко до них добраться. Индивиды сами в состоянии отличить рациональную власть от иррациональной, подавление от прибавочного подавления. То, что они не могут этого сделать сейчас, не означает, что они не способны обрести умение сделать это в нужный момент. Тогда метод проб и ошибок становится рациональным методом свободы. Путь к условиям свободного общества в отличие от утопий лежит не через фантастические проекты. К ним ведет разум.
Самый серьезный аргумент против свободной цивилизации исходит не из конфликта инстинкта и разума, но скорее из конфликта внутри самого инстинкта. Даже если разрушительные формы его полиморфной извращенности и распущенности - следствие прибавочного подавления и способны принять либидозный порядок при устранении последнего, сам инстинкт остается по ту сторону добра и зла, а никакая цивилизация не может обойтись без этого различения. Тот незамысловатый факт, что сексуальный инстинкт не руководствуется взаимностью в выборе своего объекта, - источник неминуемых конфликтов между индивидами, а также веской аргументации против возможности самосублимации. Но, возможно, сам инстинкт обладает внутренним барьером, который "сдерживает" его неистовую силу? Возможно, Эрос обладает "естественным самоограничением" так, что для своего подлинного удовлетворения он сам нуждается в откладывании, окольности и задержке? Тогда возможны препятствия и ограничения, не налагаемые извне принципом реальности, но устанавливаемые и принимаемые изнутри самого инстинкта, ибо им присуща либидозная ценность. Такое понятие есть у самого Фрейда, который полагал, что "неограниченная сексуальная свобода" ведет к неполному удовлетворению:
Легко доказать, что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие.* (* Об унижении любовной жизни, с. 151. - Примеч. авт.)
Более того, по его мнению, "следовало бы - как это ни странно звучит - допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения"** (** Там же, с. 152. - Примеч. авт.). Неоднозначная идея, легко поддающаяся идеологическому использованию: неблагоприятные последствия легко достижимого удовлетворения, по-видимому, составляли одну из основных опор репрессивной морали. Тем не менее в контексте теории Фрейда "естественные препятствия" представляются не отрицающими удовольствие, а функционирующими в качестве премии к удовольствию, если только они не связаны с архаическими табу и экзогенными ограничениями. Удовольствие содержит элемент самоопределения, который является знаком человеческого триумфа над слепой необходимостью:
Природа не знает действительного удовольствия, но только удовлетворение потребности. Всякое удовольствие имеет общественную природу. Причем для несублимированных аффектов это характерно в не меньшей степени, чем для сублимированных. Удовольствие коренится в отчуждении.*** (*** Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. Dialektik der Aufklarung. Amsterdam, Querido Verlag, 1947, S. 127. - Примеч. авт.)
Удовольствие от слепого удовлетворения нужды отличает отказ влечения истощить себя в немедленном удовлетворении, его способность воздвигать и использовать барьеры для усиления удовлетворения (fulfillment). Выполняя работу господства, этот инстинктивный отказ может также служить и противоположной цели: эротизации нелибидозных отношений и преобразованию биологического напряжения и облегчения в свободное счастье. Используемые теперь не как инструменты прикрепления людей к отчужденным функциональным ролям, барьеры против абсолютного удовлетворения могут стать элементами свободы человека, они способны защитить то отчуждение, в котором коренится удовольствие, - отчуждение человека уже не от себя, но от голой природы - его свободное самоосуществление. Стало бы реально возможным существование людей как индивидов, каждый из которых сам формирует свою жизнь; они противостояли бы друг другу как индивидуальности с действительно разными потребностями и разными способами удовлетворения - с собственными отказами и собственными предпочтениями. Разумеется, верховенство принципа удовольствия не обошлось бы без антагонизмов, страданий и разочарований - индивидуальных конфликтов на пути к удовлетворению. Но эти конфликты обладали бы либидозной ценностью и были бы проникнуты рациональностью удовлетворения, чувственной рациональностью, которой присущи собственные нравственные законы.
Идея либидозной нравственности подсказана не только фрейдовским понятием инстинктивных барьеров на пути к абсолютному удовлетворению, но также психоаналитическими интерпретациями "Сверх-Я". Уже было указано, что "Сверх-Я" как представитель нравственности в сознании нельзя однозначно истолковать как представителя принципа реальности, в особенности в случаях запрещающего и наказующего отца. Зачастую "Сверх-Я", по-видимому, заключает секретный союз с "Оно", защищая его притязания от "Я" и внешнего мира. Исходя из этого, Шарль Одье предположил, что часть "Сверх-Я" "в конечном счете является представителем примитивной фазы, в течение которой мораль еще не освободилась от принципа удовольствия"* (* Vom Uber-ich // Internationale Zeitsrift fur Psychoanalyse, XII (1926), 280, 281. - Примеч. пер.) Он говорит о прегенитальной, доисторической, доэдиповской "псевдоморали", предшествующей принятию принципа реальности, и именует представителя этой псевдоморали в психике Сверх-Оно (superid). Психическим феноменом, который указывает на такую прегенитальную мораль в индивиде, является отождествление с матерью, проявляющееся скорее в стремлении к кастрации, чем в страхе кастрации. Возможно, это пережиток регрессивной тенденции: воспоминание о первичном Праве Матери и в то же время "символическое средство сохранения преобладающих в те времена привилегий женщины". Согласно Одье, прегенитальная и доисторическая мораль "Сверх-Оно" несовместима с принципом реальности и, следовательно, является невротическим фактором.
Еще один шаг в интерпретации, и странные следы "Сверх-Оно" представляются следами иной, утерянной реальности или иных взаимоотношений между "Я" и реальностью. Доминирующее у Фрейда понятие реальности, которое сгустилось в принцип реальности, "тесно связано с отцом". Это понятие противостоит "Оно" и "Я" как враждебная внешняя сила, и соответственно отец является фигурой в значительной степени враждебной, чью власть символизирует угроза кастрации, "направленная против удовлетворения либидозного влечения к матери". Для "Я" путь к зрелости лежит через подчинение этой враждебной силе: "покорность угрозе кастрации" является "решающим шагом в утверждении Я" как основывающегося на принципе реальности"* (* Loewald, Hans W. Ego and Reality // International Journal of Psychoanalysis, Vol. XXXII (1951), Part I, p. 12. - Примеч. авт.). Однако эта реальность, противостоящая "Я" извне как антагонистическая сила, - не единственная и не первичная действительность. Развитие "Я" "удаляется от первичного нарциссизма", на этой ранней ступени реальность "находится не извне, а содержится в "пред-Я" первичного нарциссизма". Она не враждебна и не чужда "Я", "внутренне с ним связана и даже не отличается от него первоначально"** (**Ibid. - Примеч. авт.). Эта реальность впервые (и в последний раз?) переживается ребенком в либидозном отношении к матери - отношении, которое вначале погружено в "пред-Я" и только впоследствии откалывается от него. Но с распадом этого первоначального единства развивается тяга к его восстановлению: "либидозное общение между ребенком и матерью"* (* Ibid., p. 11. - Примеч. авт.). На этой начальной стадии отношения между "Я" и реальностью, нарциссический и материнский Эрос, по-видимому, совпадают, впервые реальность переживается как либидозное единство. Нарциссическая фаза индивидуальной прегенитальности "воспроизводит" материнскую фазу в истории человеческой расы. Это создает реальность, вызывающую у "Я" реакцию не защиты или подчинения, но совершенного отождествления со "средой". Но в свете отцовского принципа реальности "материнское представление" о реальности круто переходит в отрицание и ужас. Побуждение к восстановлению утерянного нарциссически-материнского единства истолковывается как "угроза", а именно как угроза "поглощения" всемогущим материнским чревом** (** Ibid., p. 15. - Примеч. авт.) Теперь враждебность отца оправданна, и он предстает как спаситель, наказывающий инцестуозное желание и защищающий "Я" от его исчезновения в матери. Вопрос не в том, что нарциссически-материнское отношение к реальности не может "вернуться" к менее изначальным, менее "жадным" формам при зрелом "Я" и развитой цивилизации, но в том, что необходимость подавления такого отношения без колебаний принимается как само собой разумеющаяся. Патриархальный принцип реальности сохраняет влияние и на психоаналитическую интерпретацию. Указывающие за его пределы "материнские" образы "Сверх-Я" - скорее обещания свободного будущего, чем память о темном прошлом.
Однако даже если можно проследить материнскую либидозную нравственность в структуре инстинктов, даже если Эрос способен воспринять порядок чувственной рациональности, весь проект нерепрессивного развития наталкивается на глубинное препятствие - а именно на связь Эроса с инстинктом смерти. Грубый факт смерти раз и навсегда перечеркивает реальность нерепрессивного существования. Ибо смерть - это последнее средство отрицающей силы времени. Но ведь "радость жаждет вечности". Идеал удовольствия - отсутствие времени. "Оно", первоначальная область принципа удовольствия, неподвластно его силе. Однако "Я", через которое удовольствие только и становится реальным, полностью зависимо от времени. Уже предчувствие неизбежного конца, не покидающее ни на миг, вносит репрессивный элемент во все либидозные отношения, а в само удовольствие - момент страдания. Эта первая фрустрация в структуре инстинктов человека становится неистощимым источником всех остальных фрустраций, а также их социальной эффективности. Человек приходит к тому, что "это все равно не может продлиться вечно", что всякое удовольствие кратко, что для всех конечных существ час их рождения есть час их смерти - и что иначе быть не может. Он смирился еще до того, как общество принудит его методически упражняться в смирении. Поток времени - природный союзник общества в сохранении правопорядка, покорности и институтов, которые бесповоротно оттесняют свободу в сферу утопии; поток времени помогает людям забыть о том, что было, и о том, что может быть: он предает забвению лучшее прошлое и лучшее будущее.
Это умение забывать - само результат длительного и безжалостного воспитания опытом - необходимое требование психической и физической гигиены, без которой цивилизованная жизнь была бы непереносимой; но это также и умственная способность, поддерживающая покорность и отказ. Забыть - значит простить то, что не подлежит прощению с позиции справедливости и свободы. Такое прощение воспроизводит условия, которые воспроизводят несправедливость и рабство: забыть прошлую боль - значит простить тех, кто причинил ее, оставив их торжествующими. Раны, залечиваемые временем, содержат яд. Одна из благороднейших задач мысли, направленных против этой капитуляции перед временем, - восстановить в своих правах память как движущую силу освобождения. Завершая "Феноменологию духа", Гегель говорит об этой функции памяти (Errinerung); в этой функции же она входит и в теорию Фрейда* (*См. гл. 1. - Примеч. авт.). Как и умение забывать, умение вспоминать - продукт цивилизации и, может быть, ее самое древнее и наиболее фундаментальное психологическое достижение. Ницше увидел в тренировке памяти начало цивилизованной морали - в особенности памяти об обязательствах, соглашениях, взносах* (* Ницше Ф. Генеалогия морали, часть II, 1-3 // Соч. в 2 тт., т. 2, с. 439-442. - Примеч. авт.) Этот контекст указывает на односторонность тренировки памяти в цивилизации, помнить полагалось, главным образом, об обязанностях, а не об удовольствиях, память была привязана к несчастному сознанию, вине и греху. В ней сохранялись невзгоды, угроза наказания, но не счастье и не обещание свободы.
Без разрешения вытесненного содержания памяти, без раскрепощения ее освобождающей силы нерепрессивная сублимация немыслима. От мифа об Орфее до романа Пруста счастье и свобода связывались с обретением времени: temps retrouve. Воспоминание возвращает temps perdu** (** утраченное время (фр.). - Примеч. пер.), которое было временем удовлетворения и осуществления. Воспоминание движет Эросом, который проникает в сознание и поднимает бунт против порядка отказа. Память помогает Эросу в его усилии победить время в мире, в котором оно господствует. Но до тех пор пока время удерживает свою власть над Эросом, счастье по самой своей сущности остается связанным с прошлым. Жестокий афоризм, гласящий, что истинный рай - это потерянный рай, - приговор и в то же время спасение temps perdu. Потерянный рай истинен не только потому, что в ретроспективе ушедшая радость кажется более прекрасной, чем она была на самом деле, но потому, что только воспоминание освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходяшестью, и, таким образом, придает ей иначе немыслимую длительность. Время лишается своей власти, когда память спасает прошлое.
Но эта победа над временем эфемерна, так как ограничена искусством и условностью; память становится реальным оружием, только воплощаясь в историческом деянии. Тогда борьба против времени становится решающим моментом в борьбе против господства:
Революционным классам в момент действия присуще сознательное желание прервать континуум истории. В Июльской революции утверждало себя именно такое сознание. Вечером первого дня борьбы одновременно в нескольких местах были совершены выстрелы по часам на башнях Парижа.* (* Benjamin, Walter. Uber den Begriff der Geschichte // Die Neue Rundschau (1950), S. 568. - Примеч. авт.)
Именно союз времени и репрессивного порядка вызывает попытки остановить поток времени, и именно этот союз делает время смертельным врагом Эроса. Разумеется, угроза времени, преходящесть момента полноты, тревога о приближении конца сами могут стать эрогенными препятствиями, которые стимулируют "наивысшую активность либидо". Однако Фаусту, пытающемуся магическим путем осуществить требования принципа удовольствия, нужно не прекрасное мгновение, ему нужна вечность. Своей устремленностью к вечности Эрос бросает вызов важнейшему табу, которое санкционирует либидозное удовольствие только как временное и контролируемое условие, но не как постоянный и главный источник человеческого существования. Безусловно, с распадом союза между временем и существующим порядком "природная" несчастность индивида перестала бы поддерживать общественно организованную несчастность. Оттеснение человеческого осуществления в сферу утопии уже не находило бы привычного отклика в инстинктах человека, и порыв к освобождению получил бы огромную силу, которой он никогда не имел до этого. Всякий здравый аргумент становится на сторону правопорядка и тех, кто утверждает, что вечную радость следует оставить для другой жизни, и стремится подчинить борьбу против смерти и недугов не подлежащим пересмотру требованиям национальной и международной безопасности.
Стремление уберечься от времени, находясь в самом времени, стремление к остановке времени, к завоеванию смерти кажется неразумным в свете любых норм и просто-таки невозможным с позиции принятой нами гипотезы. Или, может быть, сама эта гипотеза делает его более разумным? Действие инстинкта смерти подчинено принципу нирваны: оно тяготеет к тому состоянию "устойчивой удовлетворенности", когда отсутствует ощущение какого-либо напряжения, - состоянию без желаний. Эта тенденция инстинкта предполагает, что его разрушительные проявления сократились бы до минимума при приближении к такому состоянию. Если основная цель инстинктов состоит не в том, чтобы вести жизнь к смерти, но в том, чтобы положить конец страданиям, устранить напряжение, - то, как это ни парадоксально, в терминах инстинктов конфликт между жизнью и смертью становится тем слабее, чем реальнее становится для жизни достижение состояния удовлетворения. Принцип удовольствия и принцип нирваны сливаются. В то же время Эрос, освободившись от прибавочной репрессии, усилился бы и сумел бы поглотить цель влечения к смерти. Изменилась бы сама инстинктивная цель смерти: если бы инстинкты стремились к удовлетворению (и получали бы его) при нерепрессивном порядке, навязчивая регрессия в значительной степени утратила бы свое биологическое рациональное основание. По мере отступления страданий и нужды наступило бы примирение принципа нирваны с принципом реальности, и тогда достигнутое состояние жизни показалось бы настолько желанным, что сумело бы эффективно противостоять бессознательному притяжению, влекущему инстинкты назад, к "более раннему состоянию". "Консервативная природа" влечений успокоилась бы в осуществившемся настоящем, и смерть перестала бы быть инстинктивной целью. Она осталась бы фактом, пожалуй, даже последней необходимостью - но против этой необходимости восстала бы теперь вся не скованная репрессией энергия человечества, необходимостью, с которой оно вступило бы в свою величайшую битву.
В этой борьбе становится возможным объединение разума и инстинкта. В условиях подлинно человеческого существования разница между подверженностью болезням в возрасте десяти, тридцати, пятидесяти или семидесяти лет и смерть от "естественных причин" после осуществившейся жизни стоят того, чтобы бороться за это со всей энергией инстинктов. Не смерть как таковая, но смерть прежде возникновения необходимости и желания умереть, смерть в агонии и страданиях, является обвинительным актом цивилизации и свидетельством неискупимой вины человечества. Эта смерть вызывает боль при сознании того, что она не была неизбежной, что могло бы быть и иначе. Чтобы облегчить тяжесть осознания этой вины, требуется вся мощь институтов и ценностей репрессивного порядка. Снова становится очевидной глубинная связь между инстинктом смерти и чувством вины. Молчаливое "профессиональное соглашение" с фактом смерти и болезней - вероятно, одно из наиболее широко распространенных выражений инстинкта смерти - или, точнее, его социального употребления, ибо в репрессивной цивилизации сама смерть становится инструментом подавления. Нависает ли она как постоянная угроза, прославляется ли как возвышенная жертва или принимается как судьба, воспитание согласия на смерть с самого начала вносит в жизнь элемент капитуляции - капитуляции и покорности, удушающих "утопические" усилия. Утвердившаяся власть имеет глубоко родственную связь со смертью, ибо смерть - символ несвободы и поражения. Сегодняшние теология и философия состязаются друг с другом в воспевании смерти как экзистенциальной категории: превращая биологический факт в онтологическую сущность, они награждают вину человечества трансцендентальным благословением, способствующим ее увековечению, - и тем самым предают обещание утопии. Вопреки этому философия, которая не хочет быть служанкой подавления, противопоставляет факту смерти Великий Отказ - отказ Орфея-освободителя. Смерть может стать символом свободы, ибо ее необходимость не уничтожает возможность окончательного освобождения. Как и другие формы необходимости, она может стать рациональной - безболезненной, и люди могут умирать без тревоги и терзаний, если будут знать, что все ими любимое защищено от бедствий и забвения. После осуществившейся жизни их смерть может стать их собственным делом - в момент, который они сами себе выберут. Но даже окончательное наступление свободы не может спасти тех, кто умер в страданиях. Память о них и накопленная вина человечества перед своими жертвами - единственное, что омрачает горизонт цивилизации, свободной от репрессии.
Мальчик Паоло скоро начал заниматься сексом и сделал это с молодым слугой дома Джованны, бедного фермера, чьи все мужчины из Касторини, кроме отца Паоло Микеле, злоупотребляли дедом Павлом до его внуков. Но подросток Павел с его ослепительной чувственностью, пропитанной кровью, наполненной атавистическими куридиями Касторини, действительно влюбился в Джованну и был встречен взаимностью, чтобы спровоцировать ревность своего деда, который отбросил девушку от нее, обратившись к ней сельской местности.
Но Павел не упустил из виду этого и, чтобы удовлетворить желание, которое его поглотило, он каждый день отваживался на бесчеловечную усталость на велосипеде на многие мили, отделяя его от любовника. Эта история продолжается некоторое время, пока родственники девочки не узнают об этом, Джованна сильно избита, поэтому она заболевает, и она опасается, что она стала уродливой, и поэтому ей не понравится тот парень, которого она отчаянно любит.
Глава 17. Эрос и Танатос
Дуалистическая концепция влечений
Фрейд неоднократно подчеркивал, что знания о природе и особенностях влечений столь недостаточны для создания какой-либо общей теории, что они всегда вызывали у него неудовлетворение своей неопределенностью и неоднозначностью. В самом деле, до возникновения психоанализа многие мыслители пытались выделить основные влечения человека, определяющие и детерминирующие его жизнедеятельность. Причем каждый из них на свой манер выделял в качестве основных столько влечений, сколько ему нравилось или по крайней мере представлялось целесообразным. Столкнувшись с подобной ситуацией, Фрейд был вынужден признать, что ни в одной из областей психологии исследователям не приходилось действовать до такой степени в потемках, и что никакое иное знание не было таким важным для обоснования научной психологии.
Это повествование о необычайной поэтической силе, достойной Верги, которая является уникальным и исключительным случаем в мерзости сказок Бранчати, может только закончиться трагически, с попыткой самоубийства Джованны, в сцене из «Полевой жизни» безудержная красота: Когда камень катится вверх по склону, она подходит к колодцу, смотрит на нее без страха и желания и бросает ее. Она была немедленно отложена, и после двух дней бессознательного в ее теле отразилась жизнь без вкуса.
Эротическая ситуация, явно проявленная в «Поле жары», имеет серьезный прецедент в «Прекрасном Энтони». Поскольку Антонио Магнано бессилен, но в его сердце совсем нежно с женщинами, между ним и его телом наблюдается явный распад, что хорошо видно в его отношениях с Барбарой, которого он любит глубоко, но с которые никогда не могут достичь эрекции. Если иногда он изо всех сил пытался выполнять сексуальный акт с другими женщинами, это всегда было результатом какого-либо аффективного участия.
Первоначально основатель психоанализа взял в качестве аналога дифференциации влечений представления древних мыслителей о голоде и любви. Соответственно этим представлениям он выделил влечения к самосохранению и сексуальные влечения. При этом влечения к самосохранению отождествлялись с влечениями Я, а сексуальные влечения включали в себя более широкий спектр, выходящий за пределы обыденного понимания сексуальности как чего-то такого, что сопряжено исключительно с сохранением человеческого рода.
Но тогда будет понятно, что это сон, освобождающее насилие, которое побудило его бороться с пожилой женщиной, только снилось. Однако теперь мы знаем достаточно о сексуальности Антонио. Он завидует тем, кто знает женщин с насилием. И импотенция - это наказание, которое он дает себе за эту вину, потому что в нем также доминирует навязчивая идея, что истинный любовник - это только тот, кто владеет телом женщины, а не тот, кто их любит. Тот, кого большинство красивых женщин хотят любить, может редко наслаждаться ими, когда в эмоциональном безразличии его интровертированное насилие может быть избавлено от женщин, которые не любят их, любовь и нежность, которые вместо этого есть для его жены Барбары.
По мере переосмысления психоаналитических взглядов на психосексуальное развитие человека стало очевидным, что либидо не ограничивается сексуальной энергией, целиком и полностью ориентированной на внешний по отношению к человеку объект. Исследование детской сексуальности и анализ нервнобольных подвели к выводу, что либидо способно отклоняться от внешнего объекта и может быть направлено на собственное Я, которое оказывается для человека не менее сексуальным объектом, чем окружающие его люди. Причем в ряде случаев собственное Я индивида становится самым важным среди других сексуальных объектов. Речь идет о нарциссическом либидо, когда сексуальная энергия человека направляется не вовне, а внутрь себя. Это нарциссическое либидо оказывается, с одной стороны, выражением тех же самых сил, которые приводят в действие сексуальные влечения, а с другой – тождественным влечениям к самосохранению.
Антонио также воплощает прототип сицилийца и итальянца, чтобы проникнуть в женщину, ферроци, представляющую самую большую радость жизни. Все остальное имеет значение очень мало! В последней сцене романа, очень значительным образом, Антонио плачет в слезливой слезе, что является криком отчаяния за его бессилие и гнев за способность владеть женщиной, которую судьба отрицает, отрицал тот «поздний подросток», что он всегда был.
«Весь этот мед», он называет Антонио желанием, чтобы он иногда сталкивался с женщинами, чисто физическим желанием, но добавляет, что несколько раз, когда он занимался любовью, он чувствовал радость, из-за которой он кричал. Это особенность сексуального поведения Антонио. И есть еще одна интересная деталь. Привлекательность, которую она всегда проявляла на женщинах Антонио, на самом деле ощущала ее как угрозу, так как женщины-женщины собирались начать: Мне казалось, что каждая девушка в глазах была почти саркастическим приглашением, задачей приблизиться к ней и быть мужчиной.
Представления Фрейда о нарциссическом либидо, наиболее ярко выраженные в работе «О нарциссизме» (1914), способствовали пониманию нарциссических неврозов и развитию психоаналитической терапии, но поставили под вопрос правомерность дуалистического учения о влечениях. Действительно, предшествующая противоположность между влечениями Я и сексуальными влечениями оказалась как бы размытой, так как часть первых влечений была признана либидозной, наделенной сексуальной энергией. Различение двух первоначально выделенных видов влечений человека теряло смысл в силу признания того, что влечение к самосохранению имеет такой же либидозный характер, как и сексуальное влечение. Это вело к далеко идущим последствиям, связанным с необходимостью отказа от дуалистической концепции влечений и пересмотром представлений о либидо в духе того расширенного толкования, которое было осуществлено Юнгом.
Они встретили меня, предлагая мою грудь смешным и смелым воздухом тех, кто приближается к противнику, который указывает на него с помощью пистолета. И нужно вспомнить пистолет Микеле в «Индифференциатах» Альберто Моравии, современного писателя и друга Бранкати, Микеле, который отправляется в дом идиллического Лео Мерумечи, который соблазнил свою сестру убить его, но он забыл загрузить оружие.
Конечно, можно было бы установить связь между фашизмом и галлизмом, и часто критика сделала это, подчеркивая тесную аналогию, которую фашистский маслицизм представляет с желанием покорить, завладеть телом женщины, которое проявляется во многих проявлениях в Бранкатии.
Ни то, ни другое не могло быть приемлемым для Фрейда. Дуалистическая концепция влечений позволяла рассматривать бессознательные психические процессы как в качественном, так и в топическом отношении. Осуществленный в 1913 году разрыв с Юнгом, в основе которого (помимо всего прочего) лежали концептуальные расхождения в понимании либидо, не способствовал радикальному переосмыслению природы влечений. Ведь подобный пересмотр подрывал основы психоанализа, и без того ставшие объектом критики со стороны сторонников индивидуальной психологии и аналитической психологии.
Итак, какова новая дорога, которая в конце «Пола тепла» Бранчати хотела пойти? Как он думал, что он собирался уйти, в романе, что он казался резким читателям, как Эмилио Чекки, «потрясающей книгой», от отчаяния человека, который больше не может стоять под рабством сексуального инстинкта?
В этом финале написано имя Иисуса Христа, и это не первый случай, когда это происходит в работе Бранкати. Кризис Бранкати, о котором говорила Моравия, был, пожалуй, реальным религиозным кризисом. Во всяком случае, заключительные страницы конклава романа остаются ценным свидетельством изменения или попытки изменить глубокое расстройство, которое происходит в сознании Бранкати, возможно, из-за отделения от его жены, актрисы Анна Проклемер, которая недавно была поглощена.
Однако Фрейд не мог оставаться равнодушным к тому двусмысленному положению, в котором оказалась психоаналитическая теория с признанием нарциссического либидо. Перед ним со всей остротой встали серьезные и принципиальные вопросы. Если влечения к самосохранению и сексуальные влечения имеют одну и ту же либидозную природу, то, быть может, не стоит проводить между ними какие-либо различия? Если оба влечения являются по своему характеру однопорядковыми, то, возможно, вообще нет никаких других, кроме либидозных, влечений? При утвердительном ответе на оба вопроса психоанализ оказывается на грани концептуального банкротства. В первом случае психоаналитики должны были признать справедливой критику тех, кто обвинял психоанализ в пансексуализме, с чем никогда не соглашался Фрейд. Во втором случае в идейном споре между основателем психоанализа и Юнгом правым оказывался последний, согласно представлениям которого либидо не ограничивается сексуальностью, а олицетворяет собой силу и энергию влечений вообще.
В работе Бранкати «Пол Тепло» отмечает точку невозврата. Феминизм сицилийской сексуальной жизни, которую ее книги принесли в результате рисования, можно было считать после последнего романа окончательным опытом. Пол пришел к горькому выводу, что для него секс был более или менее, чем отмена правильных причин существования. Чтобы противостоять призраку аннигиляции и отчаяния, чтобы вернуться к Перчатке Человека, Бранкати, похоже, начинает метафизическое и религиозное видение жизни и ее ценностей. Видение, что преждевременная смерть и невозможность провести сложный обыск, оставшийся в приостановленном состоянии, предварительная посадка и непредсказуемые результаты.
После мучительных сомнений и глубоких раздумий Фрейд нашел выход из трудного для него и психоанализа положения. Вместо первоначального дуализма, включающего в себя разделение на влечения к самосохранению (влечения Я) и сексуальные влечения, он выдвинул новое дуалистическое представление о влечениик жизни и влечении к смерти. В концептуально оформленном виде новое представление о влечениях человека было выражено им в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Применительно к проблемам культуры оно нашло свою последующую разработку десять лет спустя в книге «Недовольство культурой», где основатель психоанализа высказал свои соображения на соотношение между инстинктом жизни и инстинктом смерти.
Драматический характер тупика, в котором Павел поставил себя в тупик. И начальные ферменты религиозной тревоги остаются, которые не смогли найти адекватные и далеко идущие разработки. Позор, милосердие, заповедь Евангелия! Это преимущество убийцы на жертве.
Эссе Психология и анализ обязан своим успехом тот факт, что - наряду с некоторыми другими Фрейд писал - открывает тенденцию, что в двадцатом веке пользовалась огромным успехом: психоаналитической теории процессов и социальных институтов. Сегодня стоит перечитать этот семантический текст Фрейда с разочарованием тех, кто приходит после бурь и этических и политических страстей «короткого века». Это эссе в преемственности с другим основанием Фрейда, опубликованным годом ранее. Мы могли бы также сказать, что психология масс - это, в некотором смысле, Вторая часть начала принципа удовольствия.
Изречения
З. Фрейд: «В основе нашей теории либидо сначала лежало противопоставление влечений Я и сексуальных влечений. Когда позднее мы начали изучать само Я и поняли основной принцип нарциссизма, само это различие потеряло свою почву».
З. Фрейд: «Мы недолго оставались на этой точке зрения. Предчувствие какого-то антагонизма в рамках инстинктивной жизни скоро нашло другое, еще более резкое выражение».
Более того, эти два текста были составлены почти одновременно. Что для Фрейда является истинным психоаналитическим объяснением социальных связей, от спонтанной и неконтролируемой толпы до более структурированных человеческих организаций? Что для Фрейда психоанализа, почему объяснение социальных отношений можно назвать психоаналитическим?
Фрейд говорит ему в ясных письмах в эссе: понимание психоаналитика означает объяснение с точки зрения либидо. «Масса, очевидно, удерживается вместе какой-то силой», и эта сила или сила - это либидо. Для либидо - латинский термин и ученый - это понимать все, что в общем языке называется Либе, любовь. И Фрейд добавляет, что либидо является основой Эроса, о котором говорит Платон. Сегодня многие предпочитают говорить о желании. Все эти термины и многое другое - эрос, любовь, кариты, либидо, либе, желание, похоть, любовь - являются тогда синонимами? или выбрать термин, а не другой, чтобы указать на концептуальный разрыв, который нужно поднять и опросить?
З. Фрейд: «Наше понимание с самого начала было дуалистическим, и оно теперь острее, чем прежде, с тех пор как мы эти противоположности обозначаем не как первичные позывы Я и сексуальные первичные позывы, а как первичные позывы жизни и первичные позывы смерти».
Деструкция, агрессивное влечение, смерть
В период 1910–1912 годов аналитиками Штекелем, Юнгом и Шпильрейн были высказаны соображения о разрушительных силах, действующих в психике человека. Так, Штекель считал, что проявление страха у пациентов нередко связано с темой смерти. Осуществив сравнительный анализ любви и ненависти, он также пришел к выводу, что в истории человечества ненависть возникла раньше любви. Наконец, согласно его взглядам, в сновидениях и фантазиях пациентов часто проявляются такие сюжеты и мотивы, которые свидетельствуют о символическом проявлении внутренней тенденции к смерти. В свете последнего соображения им была высказана идея о Танатосе как влечении к смерти. На примере разбора многочисленных сновидений он показал, что наряду с желанием жить человек обладает и желанием умереть.
Фрейд уже разработал концепцию сублимации, согласно которой часть желания в смысле любви меняет объект, лишает гражданских прав плотских целей и вкладывает культурные и социально осязаемые цели; желание «затормозилось в цели», как он говорит, или это не приводит к окончательному наслаждению; желание, которое ему нравится в желании. Либидо рождается, как любовь, и развивается подобно каритам. Или, если вы предпочитаете греческий, он рождается как эрос и развивается как агапе. Но, сублимированный или нет, либидо остается желанием инвестировать что-то вне его, - говорит Фрейд.
Юнг утверждал, что либидо включает в себя силы, направленные как на созидание, так и на разрушение. Как было им отмечено в работе «Либидо, его метаморфозы и символы» (1912), страх невротика перед эротическими влечениями может привести к тому, что он не захочет участвовать в битве за жизнь. Он душит в себе бессознательные желания и тем самым, по выражению Юнга, совершает как бы самоубийство. Отсюда проистекают различного рода фантазии о смерти, сопровождающиеся отказом от эротических желаний. Как это ни странно покажется на первый взгляд, но страсть уничтожает саму себя и либидо «есть бог и дьявол». Любовь, по мнению Юнга, подымает человека над самим собою, над границами его смертности и земнородности, ввысь, к божественности, и в то же время она и уничтожает его.
Но мы попытаемся показать, что это недоразумение Фрейда. Разумеется, Фрейд рассматривает импульсы как фундаментальные, но нужно задаться вопросом, что он на самом деле имел в виду с этим термином, переведенными на английский язык и французскими пульсациями.
Как отмечает Жан-Люк Нэнси. Драйв или французский пульсизм, в два разных аспекта делали упор на механическую тягу, на ограничение. Он находится в порядке импульса и желания. Он выдвигается вперед, он активируется. Существует значительная полиморфная активность в полутипе тревиновского глагола. Фактически, этот глагол означает толкание, перемещение, выполнение, осуществление. Вместо того, чтобы водить машину, мы могли бы перевести Триба с помощью пингера, продвинутого вперед.
Вильгельм Штекель (1868–1940) – австрийский психоаналитик, один из первых учеников и сторонников Фрейда. В 1902 году вошел в организованный Фрейдом «кружок по средам», который позднее стал Венским психоаналитическим обществом. Как никто другой, Штекель владел искусством толкования сновидений, что признавалось Юнгом, назвавшим его «энциклопедией сновидений», и основоположником психоанализа, считавшим, что он лучше всех умеет «улавливать смысл бессознательного». Вместе с тем Фрейд характеризовал Штекеля как дерзкого человека, не признающего «никакой дисциплины». В 1912 году Штекель отошел от школы Фрейда. Ему приписывают выражение, что карлик, сидящий на плечах великана, может видеть дальше самого великана. Говорят, что основатель психоанализа с сарказмом реагировал на данное сравнение, заметив, что, возможно, это и так, но подобное не относится к вши, сидящей в шевелюре астронома. В дореволюционной России на русском языке были опубликованы несколько статей Штекеля в журнале «Психотерапия», атакже его работы «Причины нервности. Новые взгляды на ее возникновение и предупреждение» (1912) и «Что на душе таится» (1912).
Но тогда изобретение Фрейда - именно: неизведанное изобретение - в основном основано на том, чтобы указать на эффективную причину этого разговора? Конечная причина, конец, который нас подстегивает, - это удовольствие. Теперь это множество импульсов или желаний суммируется в двух основных направлениях - или двух классах импульсов - между ними: первый - Эрос. Привод или толчок для Фрейда - это телесный аспект чего-то более существенного: тот факт, что человек эротичен, и Эрос всегда включает в себя другое.
В философских терминах: Фрейд начинается с метафизики, которая была усечена другими способами, кроме Шопенгауэра и Ницше, согласно которой суть человека - Эрос. И суть жизни в целом. Хайдеггериан сказал бы, что Эрос или желание являются существенным свойством существа живого существа. Все, что делают люди, говорят и предпринимают, следует интерпретировать как последнее средство как проявление Эроса или желания. В этом суть - остальное - это деривация, следствие, вуаль. Поэтому следует подумать о группах и институтах, начиная с Эроса.
В 1912 году Шпильрейн опубликовала в одном из психоаналитических журналов статью «Деструкция как причина становления», в которой в явной форме выразила свое представление о присущем человеку деструктивном начале. Ранее, на состоявшихся в 1911 году заседаниях Венского психоаналитического общества она высказала идею о склонности человека к деструктивности и, ссылаясь на русского биолога И. Мечникова, говорившего об «инстинкте смерти», в скрытом состоянии гнездящегося в глубине человеческой природы, поставила вопрос о необходимости осмысления проблемы существования данного инстинкта в человеке.
Присутствовавший на этих заседаниях Венского психоаналитического общества Фрейд сделал несколько возражений по поводу увлечения Шпильрейн биологическими концепциями. В одном из писем к Юнгу (1912) он отметил исследовательские способности молодой девушки, но в то же время подчеркнул, что рассмотренное ею деструктивное желание не может быть им принято, так как оно ему «не по вкусу».
В ранний период своей исследовательской и терапевтической деятельности Фрейд считал, что деструктивность и агрессивность не могут рассматриваться в качестве самостоятельного влечения человека. Еще до того, как Шпильрейн выступила с идеей о склонности человека к деструктивности, один из сподвижников основателя психоанализа (Адлер) высказал мысль, что человек может испытывать страх, возникающий у него на основе подавления «агрессивного влечения», которое, по его мнению, играет заметную роль как в жизни, так и в неврозе.
Фрейд и Адлер разошлись по идейным соображениям в 1911 году. Двумя годами ранее в работе «Анализ фобии пятилетнего мальчика» основатель психоанализа критически отнесся к высказанной Адлером идее об агрессивном влечении. Он не согласился с тем, что в случае фобии страх объясняется вытеснением агрессивных склонностей ребенка.
Из истории психоанализа
Первый жизненный урок, заставивший будущего основателя психоанализа задуматься над феноменом смерти, был преподнесен ему в детстве его матерью. В работе «Толкование сновидений» Фрейд изложил одно из своих детских воспоминаний, когда мать ему, шестилетнему мальчику, однажды сказала, что он сделан из земли и должен превратиться в землю. Маленькому Сиги это не понравилось, и он выразил сомнение по этому поводу. Тогда его мать потерла руку об руку и показала черные кусочки кожи, которые отделились при трении ладони об ладонь. Тем самым она хотела наглядно проиллюстрировать сыну ранее высказанную мысль, что все люди сделаны из земли. Вспоминая этот эпизод, Фрейд писал, что его удивление было безгранично и именно тогда он усвоил то, что впоследствии узнал в известном изречении: «Ты обязан природе смертью».
Письма Фрейда к невесте свидетельствуют о том, что до возникновения психоанализа его интересовали проблемы жизни и смерти. В то время он не предавался глубоким размышлениям на эту тему, как это имело место в работе «По ту сторону принципа удовольствия», опубликованной почти сорок лет спустя. Во всяком случае, его размышления о жизни и смерти не получили какого-либо концептуального обоснования. Тем не менее в письмах к невесте он замечал, что все люди «связаны жизнью и смертью» и что жизнь для каждого из нас «завершается смертью, то есть небытием».
Из приведенного выше суждения Фрейда нетрудно понять, что в то время он был не готов к изменению своих ранее выдвинутых представлений о влечениях, в соответствии с которыми в качестве основных признавались им влечения Я и сексуальные. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рассмотренное Шпильрейн деструктивное влечение пришлось ему «не по вкусу». Однако спустя несколько лет он не только назвал ее статью о деструкции богатой по содержанию и глубокой по мыслям работой, но и в какой-то степени воспроизвел некоторые ее аргументы. Это нашло отражение в его книге «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), в которой он дал обоснование идеи о влечении к смерти.
Нельзя сказать, что проблематика смерти нашла свое отражение только в поздних работах Фрейда. Осмысление смерти имело место и на ранней стадии его исследовательской деятельности. Так, в «Толковании сновидений» (1900) в поле его зрения оказались сновидения, связанные с представлениями человека о смерти близких ему людей. Он обратил внимание на сновидения детей, на их наивные представления о смерти и высказал соображение, что «страх смерти» чужд ребенку. При этом Фрейд подчеркнул, что представление ребенка о смерти имеет весьма мало общего с пониманием ее взрослым человеком, поскольку ему незнакомы ужасы тления, могильного холода, бесконечного «ничто».
В работах, написанных и опубликованных Фрейдом до Первой мировой войны, проблематика смерти также находила свое отражение. В частности, в статье «"Культурная" сексуальная мораль и современная нервозность» (1908) он писал о том, что с ограничением сексуального удовлетворения у народов обыкновенно увеличивается страх жизни и боязнь смерти. В работе «Мотив выбора ларца» (1913) он рассматривал немоту как символ смерти и подчеркивал, что немоту человека можно воспринимать «как олицетворение самой смерти, как богиню смерти». В книге «Тотем и табу» (1913), исследуя табу мертвецов и демонизм умерших, основатель психоанализа высказал мысль, что табу покойников вытекает из противоположности между сознательной болью и бессознательным удовлетворением по поводу смерти.
Первая мировая война подтолкнула Фрейда к более глубоким размышлениям о проблеме смерти. В начале 1915 года он выступил в Вене с докладом «Мы и смерть» и опубликовал в психоаналитическом журнале «Имаго» статью «Размышления о войне и смерти».
В докладе «Мы и смерть» Фрейд подчеркнул, что психоанализ взял на себя смелость выступить с утверждением, что каждый из нас в глубине души не верит в собственную смерть. Бессознательное отношение современного человека к смерти во многом напоминает аналогичное отношение к ней первобытного человека, и в этом плане в каждом из нас жив наш предшественник, не веривший в собственную смерть, но прибегавший к убийству другого, воспринимаемого в качестве врага. На основе исторического сопоставления и выдвинутых им психоаналитических идей Фрейд высказал ряд соображений, получивших в дальнейшем свое концептуальное обоснование в работах 20-30-х годов. В частности, он говорил о том, что осознание вины произошло из двойственного чувства по отношению к покойнику, а страх смерти – из идентификации с ним; современные люди являются потомками бесконечной череды поколений убийц, а страсть к убийству сохраняется у нас всех в крови; нашим задушевным отношениям с другими людьми всегда присуща доля враждебности, и именно она дает толчок бессознательному желанию смерти. Одновременно с этими соображениями основатель психоанализа поставил вопрос о том, не следует ли в свете психоаналитических идей пересмотреть наше отношение к смерти. Если наше бессознательное не верит в собственную смерть, то это является результатом культурного отношения к смерти, свидетельствующего о психологически завышенной мотивации к жизни, и, следовательно, не должны ли мы смириться с истиной, что все мы смертны?
Фрейд понимал, что поставленные им вопросы могут быть восприняты как некий призыв регрессировать на предшествующие ступени культурного развития. Поэтому он специально подчеркивал, что речь идет не о рассмотрении смерти как высшей цели, а о том, что изменение отношения к ней может способствовать тому, чтобы сделать жизнь более сносной. Не случайно, перефразируя известное высказывание древних «если хочешь мира, готовься к войне», основатель психоанализа в конце своего доклада заявил: «Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти».
В статье «Размышления о войне и смерти» Фрейд фактически повторил свои идеи, изложенные им в докладе «Мы и смерть». Особое внимание он обратил на разочарование, которое вызвала Первая мировая война у людей, и на изменившееся отношение к смерти, которую эта война навязала людям. При этом он подчеркнул, что войны никогда не прекратятся, пока разделяющая нации враждебность использует мощную силу инстинктов в психике; пока изучаемая детьми в школах история мира в значительной степени является серией убийств одного народа другим. Вызванные Первой мировой войной ощущения замешательства и полного бессилия людей в значительной степени определены тем, что мы не можем сохранить наше прежнее отношение к смерти, а новое еще не выработалось.
Несмотря на свои размышления о смерти и поставленные в связи с этим вопросы, Фрейд не решался вплоть до 20-х годов говорить ни об инстинкте агрессии, ни об инстинкте смерти, хотя уже в 1915 году признал существование агрессивного, деструктивного влечения, наряду с сексуальными импульсами составляющего основу садизма. Признание деструктивного влечения в качестве неизменного спутника человеческой жизни нашло свое отражение лишь в работах позднего периода его исследовательской и терапевтической деятельности, что имело место, в частности, в его книгах «По ту сторону принципа удовольствия» и «Недовольство культурой».
Изречения
З. Фрейд: «Я не могу решиться признать особое агрессивное влечение наряду и на одинаковых правах с известными нам влечениями самосохранения и сексуальными. Мне кажется, что Адлер неправильно считает за особенное влечение общий и непременный характер всякого влечения и именно то „влекущее“, побуждающее, что мы могли бы описать как способность давать толчок двигательной сфере. Из всех влечений не осталось бы ничего, кроме отношений к цели, после того как мы отняли бы от них отношение к средствам для достижения этой цели, „агрессивное влечение“. Несмотря на всю сомнительность и неясность нашего учения о влечениях, я все-таки пока держался бы привычных воззрений, которые признают за каждым влечением свою собственную возможность сделаться агрессивным и без того, чтобы быть направленным на объект».
З. Фрейд: «Не лучше ли было бы вернуть смерти в действительности и в наших мыслях то место, которое ей принадлежит, и понемногу извлечь на свет наше бессознательное отношение к смерти, которое до сих пор мы так тщательно подавляли?»
Навязчивое повторение, влечение к жизни и влечение к смерти
В психоаналитической теории Фрейдом было сформулировано положение, что человек в своей деятельности руководствуется принципом удовольствия и протекание психических процессов автоматически регулируется этим принципом. Получение удовольствия или устранение неудовольствия сопровождаются уменьшением напряжения энергетического потенциала. С признанием этого момента психоаналитическая теория психической деятельности стала включать в себя экономическую точку зрения. Топическое (по месту расположения), динамическое (переход из одной системы в другую) и экономическое (количественное изменение возбуждения) представления о функционировании человеческой психики легли в основу метапсихологии как общей психоаналитической теории.
Если быть предельно точным, то вряд ли приходится говорить о том, что принцип удовольствия управляет ходом протекания психических процессов. Фрейд это понимал. Уточняя смысл введенного им принципа удовольствия, он подчеркивал, что речь идет, по сути дела, о признании наличия в душе человека сильной тенденции к господству данного принципа. Этой тенденции противостоят различные силы и условия, в результате чего конечный результат далеко не всегда будет соответствовать принципу удовольствия.
Одним из обстоятельств, затрудняющих осуществление принципа удовольствия, является стремление организма к самосохранению, в результате чего этот принцип сменяется принципом реальности. Под воздействием принципа реальности конечная цель, то есть достижение удовольствия, не утрачивает свое значение, но как бы откладывается на время, чтобы окольным путем человек смог найти себе путь к удовольствию.
По мнению Фрейда, замена принципа удовольствия принципом реальности лишь частично объясняет жизненный опыт человека, который связан с повышением количества возбуждения организма, вызванного неудовольствием. Значительным источником неудовольствия являются внутрипсихические конфликты и расщепления, происходящие в душе. Несовместимость между собой отдельных влечений и их компонентов затрудняет достижение единства Я. В результате процессов вытеснения социально и этически неприемлемые влечения задерживаются на ранних ступенях психического развития, а возможность их удовлетворения откладывается на неопределенное время. В понимании Фрейда, вытеснение превращает возможность удовлетворения влечений в источник невротического неудовольствия. В конечном итоге человек ощущает неудовольствие от внутреннего восприятия напряжения, которое связано с неудовлетворением собственных влечений, или от внешнего восприятия, которое порождает неприятные ожидания, признаваемые в качестве грозящих ему опасностей.
В этих рассуждениях Фрейда не было ничего такого, что позволяло бы заглянуть по ту сторону принципа удовольствия. Однако опыт клинической практики и уточнения, касающиеся концепции влечений в связи с обсуждением нарциссического либидо, вызывали потребность в дальнейшем переосмыслении предшествующих представлений о бессознательной психической деятельности человека.
Изменения в практике психоанализа касались прежде всего новых ориентиров психоаналитической техники. Первоначально задача психоаналитической работы сводилась к выявлению у пациента скрытого бессознательного с целью доведения его до сознания больного. Психоанализ выступал в качестве искусства толкования бессознательного. Однако этого оказалось недостаточно для эффективной психоаналитической работы, и терапевтическая деятельность стала направляться на то, чтобы, опираясь на собственные воспоминания, пациент мог подтвердить выдвинутые аналитиком построения и конструкции. В процессе решения этой задачи обнаружилась действенность сопротивлений пациента, и стало очевидным, что терапевтическая деятельность предполагает прежде всего работу с его сопротивлениями. Искусство психоанализа состояло теперь в обнаружении и вскрытии сопротивлений пациента, доведении их до его сознания и побуждении его, благодаря усилиям аналитика, к их преодолению и устранению.
Однако оказалось, что и на этом пути общая цель перевода бессознательного в сознание не достижима в полной мере. Далеко не всегда пациент вспоминал именно то, что привело его к болезни. Его воспоминания могли касаться лишь части вытесненного бессознательного. Нередко вместо воспоминания своих прошлых переживаний он воспроизводил, повторял вытесненное в виде новых переживаний, что находило свое отражение в переносе, то есть по отношению к аналитику. Во время психоаналитического лечения возникало так называемое навязчивое повторение, обусловленное вытесненным бессознательным. Это навязчивое повторение, раскрываемое психоанализом у невротиков, оказывается характерным и в жизни людей, не страдающих невротическими расстройствами.
Исходя из подобного понимания, Фрейд выдвинул гипотезу, согласно которой в психической жизни людей имеется выходящая за пределы принципа удовольствия тенденция к навязчивому повторению. Психоаналитик встречается с навязчивым повторением как в психической жизни раннего детства, так и в случаях из клинической практики. Так, в детской игре ребенок способен повторять даже неприятные переживания. Причем повторение того же самого оказывается своеобразным источником удовольствия. У подвергаемого анализу пациента навязчивое повторение в переносе его инфантильного периода выходит за пределы принципа удовольствия. В обоих случаях оказывается, что навязчивое повторение и влечения человека тесно связаны между собой.
С этой точки зрения влечение, по мнению Фрейда, может быть определено как своего рода органическая эластичность, присущее живому организму стремление к восстановлению своего прежнего состояния, которое в силу различного рода внешних препятствий ему пришлось покинуть. Наряду с внутренней тенденцией к изменению и развитию, влечение человека включает в себя и тенденцию к повторению, восстановлению, сохранению статус-кво, и в этом смысле является выражением консервативной природы всего живущего. На основании признания подобного положения вещей Фрейд выдвинул предположение, что все влечения стремятся восстановить прежнее состояние и, следовательно, каждое живущее существо всякими окольными путями развития направляется к своему исходному состоянию. Если признать простую истину, в соответствии с которой вследствие внутренних причин все живое рано или поздно умирает, возвращается к своему неорганическому состоянию, то мы, по убеждению основателя психоанализа, можем сказать, что целью всякой жизни является смерть.
Как утверждение «Целью всякой жизни является смерть» согласуется с предшествующим представлением Фрейда о том, что в каждом человеческом существе имеется влечение к самосохранению? Ведь выдвинутое им в работе «По ту сторону принципа удовольствия» положение о присущем человеку влечении к достижению смерти, по сути дела, вступало в явное противоречие с первоначальной дуалистической концепцией, основанной на признании влечения к самосохранению и сексуальных влечений.
Не уклоняясь от ответа на этот вопрос, Фрейд полагал, что влечение к самосохранению может быть рассмотрено в качестве частного, предназначенного для того, чтобы предотвратить какие-либо иные возможности возвращения живого организма к неорганическому состоянию, кроме внутренне присущего ему собственного пути к смерти. Живой организм стремится к естественной смерти, и «сторожа жизни», олицетворяющие собой инстинкт самосохранения, первоначально были не чем иным, как «слугами смерти».
Сексуальные же влечения, в том числе и служащие продолжению человеческого рода и противодействующие умиранию, в понимании Фрейда, так же консервативны, как и все другие влечения. Они служат воспроизведению ранее наличествовавших состояний живого организма и представляются еще более консервативными, поскольку сопротивляются внешним влияниям и стремятся к сохранению жизни во что бы то ни стало.
В результате в процессе своих размышлений над взаимосвязью между навязчивым повторением и влечениями человека Фрейд пришел к новой дуалистической концепции, в соответствии с которой в качестве основных им выделялись влечение к жизни и влечение к смерти. Тем самым вольно или невольно он как бы пришел к философским построениям, ранее развиваемым различными мыслителями, включая, например, Эмпедокла и Шопенгауэра.
Выдвигая представления о новой дуалистической концепции влечений, Фрейд исходил из коренной противоположности между влечениями к жизни и влечениями к смерти. Аналогичная полярность выводилась им и из направленности либидо на объект, когда рассматривались отношения между любовью (нежностью) и ненавистью (агрессивностью). Зачатки этих представлений содержались уже в ранних идеях Фрейда, связанных с признанием явлений садизма и мазохизма в процессе психосексуального развития человека, когда мазохизм рассматривался в качестве обращения садизма на собственное Я. Возвращаясь к этим представлениям с позиций новой дуалистической концепции влечений, основатель психоанализа вынужден был сослаться на статью Шпильрейн «Деструкция как причина становления». Он признал, что значительная часть ее рассуждений на эту тему была предвосхищена в данной статье, в которой садистский компонент сексуального влечения был назван деструктивным. Данное признание было им сделано в работе «По ту сторону принципа удовольствия».
Десять лет спустя в книге «Недовольство культурой» Фрейд выразил свою готовность признать, что в садизме и мазохизме психоаналитик имеет дело со сплавом эротики и деструктивности, направленной или внутрь, или вовне. При этом он заметил, что ему самому непонятно, как он сам и многие психоаналитики проглядели широко распространенную агрессивность и деструктивность.
Выдвинутое в работе «По ту сторону принципа удовольствия» представление Фрейда о новой дуалистической концепции влечений привело к тому, что сексуальное влечение превратилось в Эрос, а собственно сексуальные влечения стали рассматриваться как части Эроса, ориентированные на объект. В его понимании, Эрос оказывается «влечением к жизни», выступающим в противовес «влечению к смерти». В соответствии с таким пониманием он и попытался разрешить загадку жизни посредством принятия этих борющихся между собой влечений.
При этом основатель психоанализа полагал, что влечения к жизни имеют дело прежде всего с внутренними восприятиями человека, выступают как нарушители покоя и приносят с собой напряжение. Принцип же удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти, которое стремится к затруднению жизненных процессов, сторожит внешние восприятия и особым образом защищается от внутренних раздражений.
В работе «Я и Оно» (1923) Фрейд продолжил обсуждение дуалистической концепции влечений, сформулированной тремя годами ранее. Это обсуждение было вызвано необходимостью приведения в единую связь структурного понимания психики с ее членением на Оно, Я и Сверх-Я с данной концепцией, в соответствии с которой выделялись два вида первичных влечений – к жизни и к смерти.
Если в книге «По ту сторону принципа удовольствия» речь шла о полярных влечениях, то в работе «Я и Оно» явственно прозвучала мысль о существовании двух инстинктов – инстинкта жизни и инстинкта смерти. Эти инстинкты рассматривались Фрейдом по аналогии с полярностью любви и ненависти. При этом он исходил из того, что трудноопределимый инстинкт смерти находит своего представителя в разрушительном инстинкте, направленность которого на различные объекты непосредственным образом связана с ненавистью. Клинический же опыт показывал, что ненависть является неизбежным спутником любви и при различных условиях одно может превращаться в другое. Человек изначально амбивалентен, и превращение одного в другое может осуществляться таким путем, что ослабление энергии эротического чувства способно привести к усилению враждебной энергии.
С точки зрения Фрейда, действующая и способная к смещению энергия в Я и Оно представляет собой десексуализированный Эрос, источник которого связан с нарциссическим либидо. Будучи десексуализированной, эта энергия является сублимированной, служащей достижению цели единства, столь характерной для Я. Таким образом, именно Я десексуализирует и сублимирует либидо Оно. Фактически это означает, что Я не только работает против целей Эроса, но и начинает служить противоположному разрушительному инстинкту, направленному наружу как раз под воздействием сил Эроса. И это только одна сторона вопроса, связанная с отношениями между структурным пониманием психики и дуалистической теорией влечений.
Другая сторона этого вопроса состоит в том, что Сверх-Я, выступающее в качестве критической инстанции, совести и чувства вины, может развивать по отношению к Я такую жестокость и строгость, которая превращается в садизм и беспощадную ярость. Признавая это обстоятельство, наглядно проявляющееся в практике психоанализа на примере пациентов, страдающих меланхолией, Фрейд усмотрел в Сверх-Я разрушительный компонент, связанный с направленностью агрессии человека не столько вовне, сколько внутрь. Стало быть, психоаналитически понятое Сверх-Я оказалось как бы «чистой культурой инстинкта смерти». Именно так основатель психоанализа характеризовал Сверх-Я, которое, по его мнению, способно довести несчастное Я до смерти. И если это не случается, то только благодаря тому, что Я может защититься от тирании Сверх-Я путем бегства в болезнь, то есть благодаря развитию мании.
В конечном итоге попытка объяснения связей между структурным пониманием психики и дуалистической концепции влечений завершилась у Фрейда признанием присущей человеку агрессивности. Это вытекало из всего хода его рассуждений. Чем больше человек ограничивает свою агрессию, направленную вовне, тем строже он становится по отношению к самому себе и тем разрушительнее для внутреннего мира оказываются требования Сверх-Я, поскольку вся или большая часть агрессии направляется внутрь, на Я. По собственному выражению основателя психоанализа, чем больше человек овладевает своей агрессией, тем больше возрастает склонность его идеала к агрессии против его Я.
В понимании Фрейда, путем идентификации и сублимации Я помогает переходу инстинкта смерти в Оно, но при этом оказывается в такой опасной ситуации, когда само может стать объектом инстинкта смерти и, следовательно, погибнуть. Чтобы этого не случилось, то есть в целях избежания возможной смерти, Я заимствует из Оно либидо, наполняется сексуальной энергией, становится представителем Эроса и тем самым обретает желание быть любимым и продолжать свою жизнь. В свою очередь, работа сублимации ведет к освобождению агрессивности в Сверх-Я, а борьба против либидо оказывается сопряженной с новыми опасностями. В результате чего Я может стать жертвой деструктивного Я, что ведет к смерти. Такова, с точки зрения Фрейда, диалектика жизни и смерти, внутренне задающая ориентиры противостояния между созидательными и разрушительными тенденциями, Эросом и инстинктом смерти.
Изречения
З. Фрейд: «Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия».
З. Фрейд: «Размышление показывает, что этот Эрос действует с самого начала жизни и выступает как „влечение к жизни“ в противовес „влечению к смерти“, которое возникло с зарождением органической жизни».
З. Фрейд: «Когда образуется Сверх-Я, значительное количество агрессивного инстинкта фиксируется внутри Я и действует там саморазрушающе. Это представляет опасность для здоровья человека на его пути культурного развития».
Борьба между Эросом и Танатосом
В конце работы «Я и Оно» (1923) основатель психоанализа подчеркнул, что в психике человека протекает постоянная борьба между Эросом и инстинктом смерти. По его мнению, Я можно представить таким образом, что оно находится во власти немых, но мощных инстинктов смерти. Эти инстинкты как бы стремятся к достижению покоя и делают все для того, чтобы заставить замолчать Эрос, который является нарушителем спокойствия и подчиняется принципу удовольствия. Но, в свою очередь, Эрос тоже проявляет свою активность, в результате чего противостояние между жизнью и смертью становится неотъемлемой частью человеческого существования.
Дальнейшее обсуждение этого вопроса нашло свое отражение в работе Фрейда «Недовольство культурой» (1930), где он показал, что феномен жизни объясняется взаимодействием и противодействием Эроса и инстинкта смерти. Отмечая, что уже в садизме и мазохизме наблюдается смесь эротики и деструктивности, он признал, что многие психоаналитики проглядели повсеместность невротической агрессивности и деструктивности. Следовательно, необходимо исправить данную оплошность и исследовать соответствующие явления применительно не только к отдельному человеку, но и к культуре в целом.
Осуществляя свое исследование, основатель психоанализа отталкивался прежде всего от введенного им в начале 20-х годов предположения о наличии в человеке влечения к смерти и сформулированного им в конце 20-х – начале 30-х годов окончательного положения об инстинкте смерти и агрессивном, деструктивном стремлении. Так, именно в работе «Недовольство культурой» он недвусмысленно высказал свою точку зрения, согласно которой агрессивное стремление является у человека изначальной, самостоятельной инстинктивной предрасположенностью.
В понимании Фрейда, процесс развития культуры стоит на службе у сил Эроса, благодаря либидозной связи которого происходит объединение людей между собой в семьи, племена, народы, нации, человечество. Но, как показывает практика психоанализа и история человечества, этой программе культуры противостоит природный инстинкт агрессивности. Он проявляется, в частности, в той враждебности, которая чаще всего наблюдается среди людей по отношению друг к другу. Агрессивное влечение оказывается главным представителем инстинкта смерти, разделяющего вместе с Эросом власть над существующим миром. С учетом всего этого проясняется и смысл культурного развития.
В целях выживания человеческого рода культура стремится всеми силами сдержать и обезвредить противостоящую ей агрессивность. О том, что при этом происходит, можно судить по аналогии с историей развития индивида, когда он пытается нейтрализовать или обезвредить свое стремление к агрессии. Апеллируя вновь к индивиду, Фрейд обращает внимание на ту загадочность, которая имеет место в этом случае. Речь идет о том, что агрессия интроецируется, то есть переносится извне внутрь индивида, фактически возвращается туда, где она возникла. Перенесенная таким образом внутрь агрессия направляется против собственного Я индивида. Там она перехватывается той инстанцией, являющейся частью Я, которая в психоанализе обозначается как Сверх-Я и олицетворяет собой совесть. Таким образом, та же самая готовность к агрессии, которая использовалась Я против окружающих его людей, теперь используется Сверх-Я непосредственно по отношению к самому Я. У человека возникает сознание вины, обусловленное напряженностью между Сверх-Я и Я, и проявляющееся как потребность в наказании. Тем самым культура преодолевает опасные для окружающих людей агрессивные устремления индивида.
Осмысливая взаимоотношения между отказом от удовлетворения влечений, совестью и агрессивностью, Фрейд утверждал, что уже в раннем детстве налагаемые на ребенка первые запреты вызывают у него значительную агрессивность против тех, кто препятствует удовлетворению его инфантильных влечений. Под воздействием воспитания он вынужден отказываться от удовлетворения своей мстительной агрессии против окружающих его авторитетов, прежде всего против авторитета его собственных родителей. Это осуществляется благодаря механизму идентификации, то есть переносу внешнего авторитета внутрь самого ребенка, что ведет к образованию его Сверх-Я. Тем самым в его распоряжении оказывается вся та агрессия, которую в более раннем возрасте он направлял, как правило, против авторитета отца.
Если посмотреть на соотношение между агрессией и подавлением влечений в общеисторическом плане, то есть через призму филогенеза, то окажется, что после удовлетворения в агрессии ненависти сыновей по отношению к праотцу в первобытном сообществе произошла идентификация Сверх-Я с убитым отцом. Это привело, по мнению Фрейда, к тому, что власть отца как бы перешла к Сверх-Я. Но склонность к агрессии против отца повторялась во всех последующих поколениях, в результате чего у каждого представителя этих поколений сохранилось чувство вины. Оно усиливалось по мере того, как осуществлялись попытки подавления самой агрессии и перенесения ее в Сверх-Я. Отсюда проистекает, как считал основатель психоанализа, роковая неизбежность чувства вины, независимо от того, было ли совершено отцеубийство в реальности, или от него воздержались. Так или иначе, чувство вины возникает в любом случае, поскольку оно является выражением амбивалентного конфликта, вечного противостояния между Эросом и инстинктом разрушительности, инстинктом смерти. По мысли Фрейда, то, что началось с отца в первобытной орде, впоследствии нашло свое завершение в массе людей.
Спустя два года после написания и публикации работы «Недовольство культурой» Фрейду вновь пришлось обратиться к размышлениям об агрессивности, деструктивности, инстинкте смерти. Дело в том, что летом 1932 года Альберт Эйнштейн, которому было предложено подготовить второй том книги «Открытые письма» (первый том ее был опубликован в 1931 году), послал Фрейду письмо с просьбой принять участие в обсуждении актуальных проблем того времени. В частности, он попросил его высказать свои соображения по поводу того, имеются ли какие-либо пути освобождения человечества от зловещей опасности войны и возможности такого психического развития людей, при котором были бы устранены их ненависть и желание уничтожать друг друга. Фрейд откликнулся на просьбу Эйнштейна и в сентябре того же года написал ему многостраничное письмо, которое известно сегодня под названием «Неизбежна ли война?».
Отвечая на вынесенный в заглавие написанного им материала вопрос, Фрейд выразил согласие с предположением Эйнштейна, что людям свойствен некий инстинкт ненависти и уничтожения, подталкивающий их к войне. В этой связи он изложил свою позднюю теорию влечений, согласно которой признаются двоякого рода влечения: стремящиеся сохранить и объединить (эротические, Эрос) и направленные на разрушение и убийство (агрессивные, деструктивные). Развивая мысли, ранее выраженные в работе «Недовольство культурой», основатель психоанализа подчеркнул, что ни одно из этих влечений не может проявить себя изолированно, но всегда переплетено и сплавлено с другим. В частности, будучи эротическим по своей природе, инстинкт самосохранения нуждается в агрессивности, чтобы быть претворенным в жизнь. Направленное на внешние объекты любовное влечение также нуждается в соединении с влечением к овладению.
Давая разъяснения к психоаналитическому пониманию влечения к разрушению, Фрейд подчеркнул, что, исходя из клинического опыта, можно сделать вывод, что это влечение содержится внутри каждого живого существа и направлено на разрушение его с целью свести жизнь к состоянию неживой материи. Это влечение может быть названо влечением к смерти, в противоположность эротическому влечению, представляющему собой стремление к жизни. Во имя сохранения своей жизни живому существу приходится разрушать чужую жизнь. Это означает, что влечение к смерти становится разрушительным тогда, когда оно направляется наружу и обращается против внешних объектов. Вместе с тем, подчеркнул основатель психоанализа, определенная доля влечения к смерти остается действенной и внутри живого существа. В психоаналитической практике приходится иметь дело с тем, что у многих пациентов деструктивное влечение загнано в глубины их собственной психики.
Исходя из такого понимания природы деструктивного влечения, Фрейд пришел к заключению, что с гуманистической точки зрения вполне понятное желание лишить человека его агрессивных наклонностей является не более чем иллюзией и практически неосуществимо. Но если это так, то не вытекает ли отсюда вывод, что войны неизбежны и неотвратимы? Поясняя свою позицию по данному вопросу, основатель психоанализа недвусмысленно выразил свою мысль. Он считал, что речь может идти не о том, чтобы полностью устранить из жизни человека его влечение к агрессии. Речь должна идти о том, чтобы попытаться отвлечь это влечение от проявления и реализации его в войне. Для достижения данной цели необходимо использовать опосредованные пути борьбы с войнами и, в частности, направить против человеческого влечения к агрессии его извечного противника, Эрос. Это означает, что данному влечению должно противостоять все то, что объединяет между собой чувства людей. Прежде всего имеются в виду связи, основанные на чувствах любви и идентификации, а также на подчинении влечений разуму.
Таковы взгляды Фрейда на человека и культуру, соотношение Эроса и инстинкта смерти, сути человеческого влечения к деструктивности и возможностей противостояния ему. Они вытекали из проведенного им сравнительного анализа между индивидуальным и культурным развитием и в определенной степени были связаны с его попытками обращения не только к индивидуальной, но и к социальной психологии. Последний вопрос, а именно обращение основателя психоанализа к социальной психологии, несомненно, заслуживает внимания, поскольку служит необходимым дополнением к его пониманию взаимосвязей между человеком и культурой, личностью и обществом.
Изречения
З. Фрейд: «Теперь смысл культурного развития проясняется. Оно должно нам продемонстрировать на примере человечества борьбу между Эросом и Смертью, инстинктом жизни и инстинктом деструктивности. Эта борьба – сущность и содержание жизни вообще, а потому культурное развитие можно было бы просто обозначить как борьбу человеческого рода за выживание».
Из книги Век толп автора Московичи СержГлава 6. ЭРОС И МИМЕСИС IПредыдущие главы показали нам совокупность отношений между людьми, которые заключены в словах «любовь» и «идентификация». Они относятся к двум группам желаний. Нам известно к каким: желания влюбленности, которые стремятся отвлечь личность от
Из книги Кризисные состояния автора Юрьева Людмила Николаевна6.3. Танатос и жизненный сценарий Известный американский психотерапевт, основатель трансактного анализа Эрик Берн (1988) утверждал, что в жизненном сценарии каждого человека есть смерть. Для того чтобы ясно его представить и понять сценарные проблемы, он рекомендует в
Из книги Мед и яд любви автора Рюриков Юрий БорисовичСторгэ, агапэ, эрос, маниа…. В 70-е годы канадский психолог и социолог Джон Алан Ли описал шесть главных видов любви; в их перечень вошли почти все греческие виды.Любовь-сторгэ у него - как бы наследница греческой сторгэ и филиа; это любовь-дружба, любовь-понимание. Прудон
Из книги Любовь и воля автора Мэй Ролло РIII. ЭРОС В ПРОТИВОБОРСТВЕ С СЕКСОМ Эрос, бог любви появился, чтобы создать землю. До этого были лишь тишина, пустота и неподвижность. А сейчас повсюду - жизнь, радость и движение. Раннеантичная мифология У Афродиты и Ареса родилось несколько прекрасных детей... Эрос, младший
Из книги Как относиться к себе и к людям [Другая редакция] автора Козлов Николай ИвановичЭрос и Агапе Истинная любовь похожа на привидение - все о ней говорят, но мало кто ее видел. Ларошфуко Недавно был свидетелем интересной сценки в парке: он и она, влюбленные… Сидят на скамейке, рука в руке, но оба скованы и напряжены. Расшифруем: чего хочет он? Он хочет ее:
Из книги Базовый курс аналитической психологии, или Юнгианский бревиарий автора Зеленский Валерий Всеволодович Из книги Грезы об Эдеме [В поисках доброго волшебника] автора Холлис ДжеймсГЛАВА 5. ЭРОС В ОРГАНИЗАЦИЯХ Вся жизнь строится на отношениях. Как мы уже знаем, качество наших взаимоотношений с окружающими непосредственно зависит от того, как мы относимся к себе, которое, в свою очередь, во многом определяется интериоризацией наших взаимоотношений с
Из книги Характеры и роли автора Левенталь ЕленаГЛАВА 7 НЕМНОГО ТЕОРИИ. ГЛАВА, КОТОРАЯ МОГЛА БЫТЬ ВВЕДЕНИЕМ КАК МЫ УСТРОЕНЫ ТРИ ЭТАЖА Каждый человек похож на трехэтажный дом, где на 1–м этаже обитает подсознание, на 2–м - сознание, и на 3–м - социальные и родительские
Из книги Опасные желания. Что движет человеком? автора Из книги Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт автора Перель ЭстерЭрос смотрит в другую сторону Стефани – очень творческий человек: она придумывает разные арт-проекты, устраивает прогулки на природе, походы в музей и на пожарные станции, праздники печенья, создает кукольный театр. Не проходит и дня, чтобы она не придумала
Из книги Каждый может стать богатым! Предприниматель жизни, или Как богатому попасть в рай автора Некрасов Анатолий АлександровичУм – сердце – эрос Издревле существует понятие троичности, троицы. Это понятие есть в разных культурах, а значит, в нём имеется зерно истины. Христианское понятие Троицы не является первоисточником, оно возникло на основе других, ещё более древних традиций. Мифы о
Из книги Теория стаи [Психоанализ Великой Борьбы] автора Меняйлов Алексей АлександровичГлава шестьдесят вторая ПОСЛЕСЛОВИЕ (Хотя последняя глава еще впереди) Вот, собственно, почти все. Таков наш трехцентровый мир, в котором позднего Фрейда толпа окрестила выжившим из ума стариком, Льва Николаевича даже собственные дети называли сумасшедшим, зато его жену
Из книги Свобода любви или идол блуда? автора Данилов ставропигиальный мужской монастырьЭрос и сексуальность Шопенгауэр с присущей ему остротой мысли утверждал, что движения эроса суть только «фиговые листочки», которыми наше сознание закрывает от себя истинный смысл любви, который будто бы заключается просто в половом сближении. Это презрительное